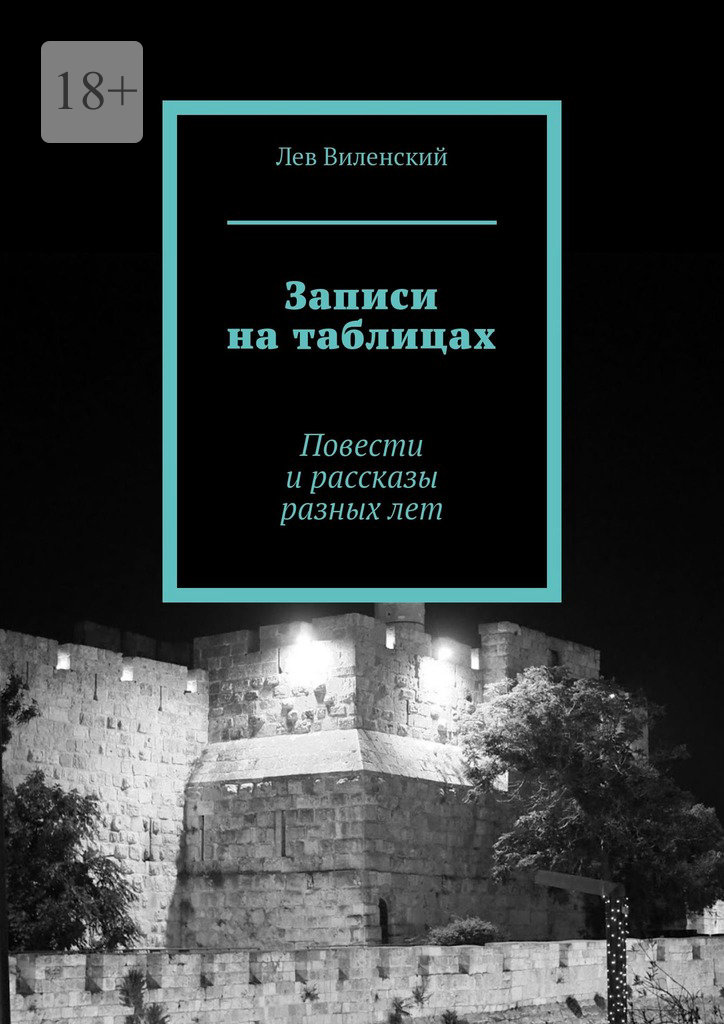одна дорога, куча мусора за воротами, где даже кости такие сухие, что глодать их — себе дороже. Одет он был просто — измученное худое тело покрывал серый, вытертый плащ, а под ним накинута желтоватая распашная жилетка с кистями на концах, выдававшая в нем иудея. И, словно в подтверждение иудейского его происхождения, косо сидела на голове белая шапочка из грубого полотна, такая же старая как плащ, пожелтевшая от пота. Пришелец переминался босыми загорелыми ногами на каменном полу залы, и, несмотря на жару снаружи и весьма сомнительную прохладу внутри, его била крупная, все возрастающая дрожь. Каждая часть его тела дрожала по-своему. Мелко тряслись руки, ноги дергались, отбивая нагими желтыми пятками чечетку, помаргивали веки, изредка резко вздрагивал угол рта. Незнакомец пристально вглядывался в Ахава умными черными глазами, а Ахав непонимающе смотрел на его, еще не покинув окончательно уютное убежище сна. Это продолжалось недолго, как вдруг посетитель заговорил неожиданно сильным, звучным голосом, подняв указательный палец правой руки к небу, он говорил, и Ахав был не в силах прервать эту речь. Царь сидел, скованный ужасом, и внимал словам неизвестного, понимая, что перед ним пророк. Причем, пророк иудейский, страшный. Такие, бывает, взглядом убить могут, их лучше не злить:
«Ахав, Ахав», — причитал пророк, звенел его голос и эхом отдавался от толстых стен залы, — «зачем тебе… зачем грехи берешь на душу свою? Зачем идешь тропой Йеровоама, сына Невота, бунтаря, смеявшегося над Господом и оторвавшим вас от братьев ваших? И для чего поставил ты идолов, простираешься перед истуканами? Отчего не вспомнить тебе завет с Авраамом, и Ицхаком, и Яаковом, не вернуться к тропе Давидовой, не воссоединить царства наши? Отчего ты делаешь противное в очах Господа?»
Ахав усмехнулся было: «Пророк, я не понимаю тебя», — но на душе лежал страх, тяжелый, липкий, лежал словно мокрый войлок, сковывал, не давал дышать. Куда-то делась та хваленая легкость быстрых слов и фраз, которыми Ахав обыкновенно ошарашивал собеседника, морочил его, доводил до смеха, до плача, до восторга. А ведь речи царя порою звучали так, что старики забывали о своей старости, и молодые девушки бросались в его объятия, что цари соседних народов приносили ему дары богатые, а бедный люд — по кувшинчику масла, рассыпалась речь его подобно речным камушкам, журчала ручейком горным. Но вот — пришел неизвестный, худой, изможденный, пришел иудей, и глаза его, горящие непонятным черным пламенем запечатали царские уста.
«Ахав», — продолжал быстро и монотонно, срываясь на крик, причитать пророк, раскачиваясь, словно былинка на ветру, и полы его плаща раскачивались в такт ему, и развевались белые кисти по углам, — «ты презрел Господа! Ты ненавидишь само имя Его, ибо ты хочешь быть больше и сильнее Его! Ты — словно Паро Египетский, хочешь стать богом на земле — и словно Паро Египетский падешь ты, сраженный железом, и не станет тебя! Посмотри — засуха в Исраэле, черными стали лица людей, птицы падают с неба, обожжённые солнцем, ветер свирепый и жаркий гонит в поля саранчу, и скоро задрожат сильные города твоего, и станет их мало, и потускнеют глаза у глядящих в окна, и встанете вы по голосу птиц, и высоты страшны вам, и на дороге ужасы. И тогда усохнут оливы, и рассыплется в прах стена Шомрона, и придет день, в котором ужас, и гибель, и Малах а-Мавет пройдет с мечом огненным над гордыми зубцами стен дворца твоего! И как жив Господь, Бог Исраэйлев, пред Которым я стою, что не будет в эти годы ни росы, ни дождя; разве лишь по слову моему!»
Ахав не узнавал себя. Храбрый, безрассудно храбрый, охотившийся в одиночку против дикого кабана, прыгавший со скал в горные озера, выходивший один на несколько воинов, скакавший в колеснице, запряженной дикими конями, он, словно ушибленная змея, шипя, медленно уползал в угол, стремясь сжаться в комочек, ощутить себя маленьким, спрятаться на руках матери, ласковое прикосновение которых он помнил. Он отползал по гладкому каменному полу, покрытому коврами и упругими подушечками, отползал в самый дальний угол комнаты, пытался поднять руки, чтобы закрыть уши, но голос пророка становился все выше и выше, пока не перешел в победный вой, схвативши себя за края одежды, истощенный гость подпрыгнул в воздух и воскликнул еще раз: «Ни росы, ни дождя! Ни росы, ни дождя!», после чего скользнул в темный проем открывшейся двери и исчез.
***
«После того, как проклял Элиягу из Тишби 14 Ахава, царя Израильского», — продолжал неутомимо писать Шевна, — «ему пришлось бежать от царского гнева. По слову Господа ушел пророк Элиягу к ручью Керит, что возле Ярдена, и жил в пещере, а вороны носили ему хлеб и мясо, и водой из Керита утолял он жажду, пока — по его собственному проклятию, которое наложил пророк на Ахава, не пересохли ручьи и Ярден не превратился в грязные лужицы глинистой жижи, для питья непригодной. И тогда Элиягу, продолжая скрываться от гнева Ахава, побрел в Финикию. Там выпадали еще дожди, и текла к Великому морю большая река Литани, за которой города финикийские, богатые товарами и торговым людом, привольно лежали на желтых песчаных берегах. Элиягу брел дорогами и звериными тропами ночью, потому что днем солнце палило его голову, и без воды он много не прошел бы. Днем он закапывался в землю как зверь, или прятался в пещерах, в душной тени которых можно было дождаться ночи. А когда на небо поднимался Ярех, месяц — желтый и круглый, светивший в полную силу, ибо настала середина месяца Буль, пророк поднимался с иссушенного своего ложа и начинал быстро и ровно переступать длинными жилистыми ногами. Так он шел семь ночей, пока не добрался до города в округе Цидонской, называемого Царефат».
***
Царефат, небольшой унылый городишко в дюнах, лежал к северу от Цидона. Городские стены не окружали его, кому нужен был этот убогий, полузасыпанный песками, приют бедняков и неудачников, которым так и не улыбнулось счастье в славном своими товарами богатом Цидоне. Здесь существовали на подаяние, изредка морской бог Ямм показывал жителям Царефата свою доброту, и на берег выносила волна мелкую рыбешку, дохлого дельфина, труп чайки, случайно оказавшейся жертвой своего более удачливого соперника — баклана. Как бы то ни было, в Царефате были и те, кто не горевал особо по поводу бедности своей и убожества, потому что просто устали горевать, и не видели проку в этом. Жили здесь как звери — от добычи к добыче, а если таковой не находилось, и цидоняне не давали милостыню — уходили на берег моря, ложились на песок и ждали, пока